Кто есть кто в сфере психического здоровья
Психиатр — врач с медицинским образованием, который лечит расстройства психики при помощи медикаментов.
Психотерапевт — специалист, который работает с расстройствами психики немедикаментозными методами. В международной практике им может быть как врач, так и психолог, который овладел методиками психотерапии. В России до недавнего времени психотерапевтом мог быть только врач, однако в 2021 году психотерапию исключили из медицинских специальностей.
Психолог — специалист с психологическим образованием, который знает механизмы работы психики и владеет методиками работы с психическими и эмоциональными проблемами. Психолог не является врачом. Он не имеет права ставить диагноз и назначать медикаментозную терапию.
Чаще всего к психологам обращаются не столько с проблемами медицинского характера, сколько за решением прикладных задач: научиться лучше справляться со стрессом и тревожностью, наладить отношения, разрешить внутренние конфликты, избавиться от детских комплексов и страхов.
Подготовил Алексей Моско
Как развивался наш интерес к психологии
Частная психологическая практика появилась на закате Советского Союза, как индустрия сформировалась в начале 1990-х годов и, похоже, развивается волнообразно. Каждая волна напрямую связана с экономикой и настроениями общества: от отделения личного от общественного после падения Союза — до отделения себя самого от других обитателей квартиры во время пандемии.
В этот период интерес к психологии зачастую смешивается с эзотерическими настроениями потерянного общества: вместе с психоанализом и гештальтом в стране становятся популярны эриксоновский гипноз, холотропное дыхание, астрология и нейролингвистическое программирование (НЛП).
Постепенно советский подход к психологии, отрицавший индивидуализм, заменяют подходы, ориентированные на личность.
В 1993 году отменяется обязательный психиатрический учет: страх обратиться за помощью и получить клеймо на всю жизнь медленно начинает отступать. Кроме людей с ментальными сложностями медицинского характера, к специалистам начинают обращаться и клиенты из эпохи нового русского «первоначального накопления капитала».
Общество учится говорить на «неприличные» темы, в том числе о сложностях в отношениях и сексе: в 1996 году стартует ток-шоу «Моя семья», в 1997 году — «Про это». А в самом начале нулевых расцветут реалити-шоу, которые окончательно сдвинут как минимум медийные границы дозволенного к показу и обсуждению, — проекты «За стеклом» и «Последний герой».

Психологические факультеты открываются почти в каждом вузе, включая непрофильные и вузы-однодневки. Специализированной литературы все больше, но структурного и глубокого подхода все еще не хватает.
Концепция «доказательности» в психологических практиках и в медицине в целом только начинает проникать в умы. Многие опираются в работе на личный опыт: «раз помогло мне или одному моему клиенту, то поможет и другим».
Появляются медийные психологи-суперзвезды: Андрей Курпатов рассказывает о семейных отношениях по ТВ, Михаил Лабковский освещает «взрослые» вопросы на радио, завоевывают популярность книги и лекции Юлии Гиппенрейтер, Людмилы Петрановской, Катерины Мурашовой.
Крепнут фонды и частные благотворительные инициативы. С 1997 года работает один из первых фондов, помогающих семьям с детьми с синдромом Дауна, «Даунсайд Ап». В 2008 году появляется фонд помощи детям с ДЦП «Добросердие», в 2012-м — фонд содействия решению проблем аутизма «Выход» и фонд помощи детям и молодежи с органическими поражениями ЦНС «Галчонок», в 2013-м — фонд социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Другие становятся ближе и чуточку понятнее — это важный шаг на пути снятия стигмы и страха перед разного рода ментальными особенностями.

Ценность личности возрастает, меняются этические установки, мы пересматриваем отношения с семьей и коллегами, сдвигаем рамки дозволенного и перестаем мириться с тем, что ранее казалось нормой (непристойное поведение коллег, семейно-бытовое насилие, вмешательство посторонних в частную жизнь).
Терапевтический словарь крепко проникает в повседневность («я не в ресурсе», «закрыть гештальт», «откликается»). Получив базовые знания о психологии и необходимый язык, общество учится «отстаивать личные границы», «избегать токсичных людей» и «бережно относиться к себе».
Пандемия становится катализатором изменений привычного мира и вынуждает все большее количество людей обращаться за помощью. При этом удаленка открывает новые возможности и для дистанционного психологического консультирования, и для получения психологического образования онлайн. И то, и другое теперь можно получить дешевле и быстрее.
Стать психологом обманчиво легко
Долгое время рынок психологических услуг был (и местами остается) рынком предложения. В то время как вузы выпускают тысячи специалистов ежегодно, а подсчитать выпускников частных краткосрочных курсов почти невозможно, большинство россиян не стремится платить деньги за «разговоры по душам».
Может показаться, что специалистов едва ли не больше, чем частных клиентов, чему способствует относительно низкий порог входа в индустрию.
Психологическое образование, на первый взгляд, несложное и недорогое. Люди идут в эту сферу за возможностью работать на себя, разгадывать секреты мироздания, решать собственные психологические проблемы, а порой и ощущать власть и контроль над другими.
Маркетинговая стратегия: «Принимать себя»
После просмотра сериала «Обмани меня» люди массово ставили диагнозы по положению рук и бровей. Многие клиенты психологов замечают, что после первых же сеансов начинают безотчетно терапевтировать своих родных и всех, кто попадется под руку, чувствуя, что теперь-то они все понимают и помогут всем жить лучше. Сегодня проявление этого эффекта можно заметить в популярных пабликах в соцсетях и на страницах брендов: вместо цитат успешных людей они тиражируют установки «выстраивания личных границ», а продавать белье и косметику проще, если параллельно учить покупателей «принимать себя».
Подписчикам популярных психологов в Instagram легко решить, что стоит прочитать всего несколько книг — и можно отправляться помогать людям, зарабатывая повторением несложных установок и понимающим выражением лица. О затратах на качественное базовое образование, планомерное повышение квалификации, долгие часы личной терапии и регулярную супервизию задумываются в последнюю очередь.
Проблемы растущего рынка
В последние 2 года рынок психологических услуг растет, и его проблемы становятся все очевиднее. Пожалуй, самое болезненное для индустрии — сложность получения качественного образования. Местами несовременные вузовские программы, сомнительные учебные заведения и короткие дистанционные курсы, в которых может отсутствовать как необходимая база знаний, так и проверка выпускника на профпригодность в целом.
Следом идет сложность ценообразования: одна консультация частного психолога может стоит от 500 рублей до десятков тысяч. Зачастую ее диктует не квалификация, а популярность, «медийность».
Специалисты, работающие в разных подходах, создают внутреннее напряжение в индустрии. Представители доказательных методов отрицают эффективность методов «альтернативных» (арт-терапия, дианализ, расстановки и др.), а некоторые направления прямо обвиняют в пирамидальной структуре и сходстве с методиками сайентологии (гештальт). Хаотичность и разрозненность рынка усиливается слабой законодательной базой, защищающей клиентов, отсутствием обязательной сертификации психологов и непрозрачностью ее добровольного проведения. В свою очередь, слабые профсоюзы неспособны отстаивать интересы самих специалистов.
В результате рынок переполнен и плохо контролируется, поэтому на нем выделяются не квалификацией, а оформлением страницы в Instagram и яркостью подхода.
Так же как некоторые советские йоги следовали за смесью элементов восточных учений, эзотерики и собственных представлений о мире, в последние 30 лет разнообразные психологи создают собственные авторские методики, в лучшем случае использующие отдельные практики из психотерапевтических подходов с доказанной эффективностью, щедро приправленные позитивным мышлением или игрой на страхах. Самые успешные обзаводятся своими институтами, академиями и школами, а как минимум издают книги в красивых обложках.

Ответственность на клиенте
Пожалуй, сложнее всего потребителям — обычным людям, не способным разобраться во всех премудростях современной психологии. Они просто ищут помощи, чтобы помириться с отцом, пережить расставание или уйти, наконец, с нелюбимой работы.
Почему найти «своего» психолога трудно?
- Многие не знают, как сформулировать проблему и к кому именно обращаться за ее решением.
- Сложно сориентироваться в многообразии подходов и специалистов.
- Люди часто путают личную терапию с развлекательными практиками, замещая системную работу над проблемой разовыми занятиями по раскрытию «внутреннего потенциала» или «тайны рода».
- Людям легче ориентироваться на рекомендации друзей, стоимость сеанса, количество подписчиков и красивые профили в соцсетях, чем на образование, регулярность супервизии и личной терапии психологов (эти данные не всегда видны).
- Не каждый готов к самостоятельной работе — многие рассчитывают, что эксперт каким-то образом сам решит все проблемы.
От специалиста часто ждут «волшебную пилюлю» или как минимум быстрый результат. В массовом сознании еще не прижилась мысль, что большая часть ответственности за успех при работе с квалифицированным психологом лежит на самом клиенте и что придется самостоятельно работать на сеансах и вне их.
Популярный агрегатор поможет найти нужного специалиста, но пройти путь к изменениям придется самому.
Популярность личной терапии растет, платформ для общения со специалистами все больше, но знаний у клиентов пока недостаточно. Это немного похоже на ситуацию с частным инвестированием, заниматься которым сегодня просто и легко (и далеко не всегда прибыльно) за счет удобных банковских приложений, а не финансового образования.
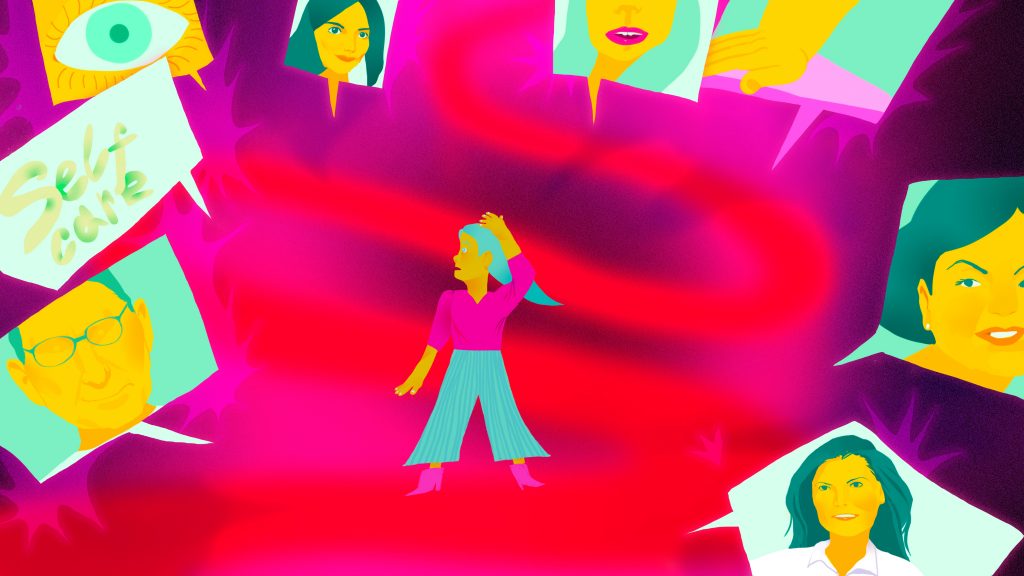
В будущее с оптимизмом — и психотерапией
Тем не менее появляется все больше материалов, которые пытаются снять стигму с темы ментального здоровья и помогают сориентироваться в запутанном рынке психологических услуг. И все больше людей готовы делиться личным опытом и обмениваться знаниями.
Пройдет немного времени, и текущая волна взрывного роста рынка завершится. Пришедшие за легкими деньгами выпускники онлайн-курсов «стань психологом за 3 месяца» уйдут, так и не получив шальных миллионов. Мы станем более осведомленными, более внимательными к квалификации и достижениям специалистов. А сеансы рисования правым полушарием и трехдневные медитационные сессии для офисных сотрудников останутся тем, чем они и являются, — приятным развлечением для бегущих от скуки горожан.
